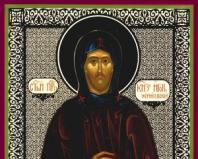Истории детей больных онкологией. Детская онкология глазами пап. Вы услышали страшный диагноз. Что дальше
20-летний московский студент Дмитрий Борисов оказался в центре внимания интернет-сообщества. У него обнаружили редкую форму рака, которая даже при наличии склонности к болезни проявляется, как правило, уже годам к 60. Благодаря соцсетям и поддержке блогеров он сумел собрать около 1 млн рублей на лечение. Сейчас ему приходят десятки сообщений поддержки, а недавно он начал вести блог на сайте «Эха Москвы». Medialeaks поговорил с молодым человеком о жизни с онкологией, и пришедшей к нему известности.
Мы сидим в коридоре онкологического института имени Герцена. Больница, казалось бы, не сильно отличается от привычных многим. Отличаются люди, диагнозы, и, конечно, общая атмосфера.
Расскажи, как ты узнал о диагнозе?
У меня с 4 лет начало проявляться редкое генетическое заболевание – нейрофиброматоз. Была опухоль с маленькую шишку, которая разрасталась до больших размеров: заняла всю спину, половину груди, подмышечную область правой руки. И на фоне этого примерно осенью-зимой прошлого года под опухолью начала расти другая небольшая шишка.
Я не придал этому значения: ну узелок очередной вырос и ладно - моему заболеванию свойственно их появление. Вскоре стало ухудшаться самочувствие, появилась апатия. К весне у меня уже была шишка побольше. Но в это время была учеба, и вы знаете, как это обычно у мужчин бывает - сначала дело, а потом здоровье. К маю шишка стала размером уже с небольшой фрукт, и однажды утром я просто не смог встать с кровати от боли. С мая начались поликлиники, тогда же начался взрывообразный рост шишки – сейчас, как вы видите, она уже с футбольный мяч.
Что сказали врачи?
О нейрофиброматозе мало кто слышал - приходишь к врачу, а тебе говорят «а я читала о вас в университете в книжке». Вообще это доброкачественное заболевание, и когда никаких раковых клеток обнаружено не было, я немного успокоился, купил каких-то болеутоляющих и продолжил учебу и хождение по поликлиникам.
Однажды я попал в РАМН к хорошему молодому хирургу, меня отправили на МРТ, начали выяснять, что за монстр растет. Думали, возможно, это киста или жировая клетка. Посмотрели, и врач мне говорит - что с легкими? Я говорю ничего, у меня образ жизни нормальный, в прошлом году рентген делали, поэтому ничего не должно быть. Потом сделал снимок, и оказалось, что у меня в легких метастазы. Специалисты сказали - похоже на саркому, но не факт, нужна дополнительная консультация. Ну и началось. Лег в ЦКБ, сделали биопсию. Оказалась - злокачественная опухоль. Перевели в онкологический институт имени Герцена. Госпитализировали, перепроверили анализы, подтвердили, что опухоль злокачественная – из оболочек периферических нервов со степенью G2.
То есть по сути это рак нервной системы?
С натяжкой можно сказать, что да, рак нервов, но если быть точнее, то все-таки злокачественная опухоль из оболочек периферических нервов мягких тканей. Странно то, что обычно нейрофиброматоз ведет себя очень плохо к годам 60, то есть я всегда думал, что лет 40 для реализации себя будет сто процентов. Я даже не предполагал, что такое может произойти. Считал, что если что-то начнется плохое, то это будет потом. Но, к сожалению это произошло сейчас, когда в жизни все только начало складываться во всем. И вот такой недуг - редкое генетическое заболевание на фоне редчайшей формы рака. Нет ни одного центра в мире занимающегося этим. То есть это такая борьба с неизвестностью.
Этим постом в Facebook поделились почти 2,5 тыс. человек. Более 1,7 тыс. поставили лайк, 225 – прокомментировали. За судьбой молодого человека следит уже весь интернет. Он признается, что иногда устает от постоянного внимания.
«Дорогие друзья, всем большой привет!
Меня действительно зовут Дмитрий Борисов, я студент [уже] 4 курса прекрасного НИУ ВШЭ, и это действительно моя страница. Я живой, реально существующий парень 20 лет. Как вам уже известно, совсем недавно у меня началась новая жизнь, которой я совершенно не рад и сейчас делаю всё зависящее от меня, чтобы вернуться к жизни прежней».
Как ты относишься к своей популярности?
Это, конечно же, армия поддержки. Но иногда я начинаю уставать от десятков однотипных сообщений со словом «держись». С другой стороны, это дало еще большее желание жить – у меня теперь столько новых интересных знакомых. Еще я уже не уверен, что нужно выставлять напоказ свою личную жизнь, может зря я это начал. Мне иногда пишут комментарии типа «чтобы ты скорее умер, либераст». И я расстраиваюсь.
Что еще тебе больше всего помогает держать настрой?
Я просто стараюсь все воспринимать как азартную игру: последняя стадия - окей, будет интересней выиграть.
Чем для меня был рак? Чем-то выходящим за рамки моей реальности. Тянулась обычная, размеренная, как кисель, жизнь. Где-то там кто-то там боролся с этим недугом, то есть, концентрировался такой невероятный сгусток горя, разыгрывалась такая трагедия, что среднему человеку невозможно представить, что всё это – один мир, что между этими реальностями нет никакой перегородки.
Что я чувствовал в тот момент? Показалось, что сошел с ума. Не в том смысле, что стал слышать таинственные голоса или странно себя вести. Скорее, мелькнуло что-то схожее с переживанием только что приговоренного к смертной казни.
Что говорят врачи теперь?
Очень много нехорошего. Документы передали одному из лучших хирургов-онкологов страны и всей восточной Европы, и сейчас должно стать понятно, какой там тип клеток - есть два варианта: один, при котором лечение есть, долгое, дорогое, болезненное, но оно есть. При втором лечения просто не существует. При этом никто от меня отказываться не собирается и будут предлагать различные варианты экспериментального лечения.
Когда станет понятно?
Скорее всего, дней через 10, две недели. Там должны посмотреть специалисты из Германии, США. Но в любом случае врачи сказали делать химию, а такие вещи почти не восприимчивы к химии, что очень плохо.
При этом, как ты писал, тебе назначили много химии?
Бесконечно много. Дело в том, что какой-то процент есть все равно - раковые заболевания очень индивидуальны. И что остается при условии, что больше ничего не поможет? Сейчас был первый курс химии, скоро будет второй и после нее будет забор тканей, анализы, будут смотреть, отреагировала ли опухоль.
Что такое химиотерапия в реальности?
Я думал, что ты сидишь в мягком кресле, вокруг специальные предметы, что это какой-то специальный обряд. На самом деле мне просто привезли в палату капельницу - 4 банки висит, 4 еще стоят у меня, сказали, что сейчас все прокапают, займет это часов 8. Вставили катетер в вену. И начали вливать. Один курс – пять дней.
Какие были ощущения?
Первый раз не почувствовал ничего. Я даже немного расстроился – я-то ожидал какого-то ада. А врач говорит – подожди еще. На второй день химии я почувствовал усталость, начинало подташнивать. После я сразу лег спать, а ночью проснулся от того что треснули губы, десны, щеки прилипли к деснам - начался сушняк и головная боль. Третья химия – появилась сильная рвота, я начал понимать, что меняются запахи и вкусы, в общем, понеслось по полной программе. Четвертый-пятый день - это безумная усталость. Ты лежишь, и не понимаешь, от чего ты устал. Открыл глава, посмотрел, уже устал, закрываешь, надо поспать. Мне было тяжело даже просто говорить.
После химии привыкаешь к новому себе. Не знаешь, что ты можешь есть: у чего-то пропал вкус, у другого, наоборот, вкус ужасный и сразу рвет. Помню, я вышел в коридор и почувствовал такую гамму запахов и вкусов – я вообще с ума сходил. Чувствуешь запахи, которые никто не чувствовал. А взял свой любимый парфюм и сразу вырвало. Мне показалось, что он ужасно пахнет, а раньше это был мой любимый одеколон.
А вот через 3 недели обещали потерю волос, так что изменю немного стиль. Я готов уже к этому, для меня это просто смена образа. Жалко только брови и ресницы, говорят, они тоже выпадают, буду похож на инопланетянина. Но это все неважно.
Из поста на фейсбуке: «Что я подумал? «Б**». Как-то так я сначала подумал и считаю, вполне достойно для 20 лет. Это уже потом пошли «рановато», «дождусь ли любимой из Владивостока», «а родители», «а мать», «друзья, бедные друзья мои и подруги», «книгу не успел написать», и много-много-много всего. Паника длилась недолго. После этого страх исчез из моей жизни. Да, это обидно, больно, но совсем не страшно. Я решил, что безумно хочу жить. Хочу и буду».
Что тебе хотелось в тот момент? Побыть одному, поговорить с друзьями?
Просто продолжать жить. Меня раздражают фильмы, где рассказывается о людях, у которых болезни, и вот они отрываются последние три месяца. Ничего вообще не меняется в жизни. Наступает какой-то новый этап, я так к этому отнесся. Каких-то эмоций бурных, ничего такого не было, по крайней мере, не могу сейчас этого вспомнить.
(Я, конечно же, тоже помню эти фильмы. В голове сразу играет та самая песня из «Достучаться до небес», все такое романтичное. Но на самом деле – мы сидим в больнице, мимо проходят больные с каменными лицами, рядом с ними молча идут родственники с пакетами- Ольга Хохрякова).
Общаешься с кем-то тут?
Настрой в больнице очень неприятный. Здесь в основном лежат взрослые люди, прожившие больше половины жизни, с семьей, бизнесом, детьми. И они сидят всегда такие мрачные, хотя они себя уже успели реализовать.
Как ты сейчас себя вообще чувствуешь?
Паршиво. Да нет, на самом деле нормально, главное утром себя поднять, потому что утром появляется все, что накопилось за ночь - головная боль, усталость, тошнота. За день это проходит – начинаешь двигаться, приходят люди. Особенно люди очень помогают. Ко мне приезжал друг с хорошими новостями – на работу устроился, и вот два часа мы с ним говорили обо всем кроме болезни. И это на самом деле спасает. Чувствуешь себя морально хорошо, тебе приятно и ты забываешь о последствиях той же химии, болевых ощущениях.
Изменился ли у тебя взгляд на жизнь?
Да, взгляд сильно изменился. Я всегда был таким серьезным, печальным, смерть - это отличный выход, я считал. Никогда не было во мне чего-то позитивного. Хотя по мне это было сложно сказать - на людях я всегда шутил. Это отличный уход от реальности. Я чувствовал всю трагедию мира. А сейчас я понял, что, наверное, я ошибался. Жить я хочу ужасно.
Что ты сделаешь, когда поправишься?
Надо куда-нибудь рвануть будет. Вылечусь и буду много ездить по миру. Поехал бы в Северную Европу, Скандинавию посмотреть.
Почему туда?
Климат, во-первых - на мои заболевания очень влияет солнце, поэтому я не выношу жару. Ну и для меня главное, чтобы было что посмотреть. Потому что валяться на море – не для меня, я люблю умный отдых, замки, горы.
Кстати, ты писал у себя про девушку из Владивостока?
Да, мы гуляли несколько месяцев, она знала изначально, что я больной на всю жизнь, но сразу это приняла. Сколько бы я ни жил – ни один человек меня никогда не отвергал, это были просто мои внутренние страхи. Когда у меня проблемы со здоровьем начались, я начал говорить, что, возможно, я скоро умру. Когда это начало подтверждаться, она уехала домой. Она живет далеко, у нее пожилая мать. Я сначала обижался, а на самом деле не на что обижаться. Но будь она все это время рядом, было бы очень здорово.
Скажи, что самое главное в жизни?
Здоровье, наверное, самое важное, а уж дальше потом идут разум трезвый, друзья, девушки, в семье все хорошо будет, работа, учеба. Главное, здоровье. Хотя… можно быть здоровым и полным идиотом по жизни. Лучше быть разумным человеком, но с раком, да, наверное, так лучше.
Я не люблю больницы. Да кто их любит. Но в этот день у меня не было тяжести на душе, которая обычно оседает после пребывания в таких местах. У меня было ощущение, что я просто зашла поболтать к другу в гости – Дима, даже находясь в онкологическом центре со злокачественной опухолью, заряжает хорошим настроением, подкупая своей открытостью прямотой. Я ехала к метро и думала о том, что у кого у кого, а у него все совершенно точно будет хорошо.
Что такое ад? В религии адом считают то место после смерти, где царит постоянное уныние, отчаяние, безнадежность, горе и боль. Ведь именно эту, душевную боль, порой не унять ничем! Вот именно такой ад наступил для меня 7 марта 2012 года.
Утро началось как обычно. Моя маленькая помощница (2 года 9 месяцев) помогала мне складывать постельное белье в диван, чтобы собрать его. Потом мы пошли завтракать кашей. Так как я решила, что поеду в поликлинику, еще раз попросила Сонечку показать мелкие детали героев в книжке. И если раньше она все показывала точно, то сейчас указательный пальчик левой ручки промахнулся. Я попросила мужа подбросить нас в поликлинику перед работой. Он не был в восторге от моего решения, считая, что у меня нарастает маразм на тему болезней детей, вернулось то, что было во время моей работы в РДКБ в ординатуре, что это навязчивая идея и я ищу в темной комнате черную кошку, которой там нет. Но все-таки подвез нас. Мы пришли спонтанно, без записи. И вроде бы не острая ситуация. Малышка на своих ногах, внешне все обычно. К неврологу очередь- пробиться невозможно. Я попала к ЛОР-врачу. Попросила осмотреть ребенка еще раз по поводу поперхиваний. Ничего не было выявлено, я поняла, что нас сейчас отфутболят. В этот момент меня как прорвало. Полились слезы градом, я кое-как объяснила врачу, что сама тоже врач, а в прошлом нейрохирург. Что все перечисленные симптомы, которые я вижу у своей девочки последние 2,5 недели, смахивают на патологию в заднечерепной ямке. Что не могу самостоятельно сделать МРТ, так как нужна госпитализация из-за наркоза. Попросила, чтобы он провел меня к неврологу, иначе меня родители не пропустят, а врач ответит, чтобы записывалась. В общем, ЛОР пошел мне навстречу, хотя уверена, подумал, что я психопатка и мне самой надо лечиться.
И вот мы у невролога. Сонечка плакала, как всегда, не хотела ничего показывать и выполнять. Очень трудно понять микросимптомы, что я перечисляла, если их не увидеть самому. Невролог в замешательстве, вроде бы я перечисляла симптомы грозные, по-книжному, а вроде бы она ничего не видит. Она стала склоняться к тому, что мне наверняка чудится и я понапрасну волнуюсь. Тут Сонечка попросилась в туалет, и мы вышли. А когда возвращались, нас увидел второй невролог. Она уже была в курсе, с ней решила посоветоваться врач, которая нас осматривала. Сонечка не видела, что за ней наблюдают, шла обычно. И вот в коридоре второй врач заметила, что походка не совсем нормальная, шаткая. Я вроде бы была рада, что сейчас нас определят дальше, дадут направление в больницу. Но слезы полились рекой. Ведь теперь это увидел еще один человек.
Дальше все было как в тумане, потому что я не могла с собой ничего поделать и просто без конца тихо лила слезы. Нам вызвали неврологическую бригаду, хотели отвезти в Филатовскую больницу, в неврологию, но я попросила, чтобы отвезли в Морозовскую детскую больницу, так как там есть нейрохирургия и аппарат компьютерной томограммы. Объяснила, что не хочу проходить круги почета по врачам, но сразу исключить объемное образование на магнитно-резонансной или компьютерной томограмме и дальше спокойно идти к неврологам. Мне пошли на уступку.
И вот мы в приемной. Канун 8-го марта, 7-е, короткий день. В приемной вызвали нейрохирурга. Тот, лишь выслушав меня, помахал головой и сразу велел оформлять нас в отделение. Параллельно договаривался по телефону с компьютерной диагностикой, чтобы нам успели сделать исследование, так как впереди длинные трехдневные выходные. Я позвонила мужу, через полчаса он был уже с нами.
Пока нас оформляли в приемном, позвонила Люда. Только и сказала сестре, что мы с Соней в приемном детской больницы, готовимся к компьютерной томограмме, чтобы исключить рак мозга. Сестра потеряла дар речи, ведь она была не только тетей Сонечке, а еще и крестной матерью! Люда только и промямлила, чтобы я не волновалась раньше времени.
Сонечку госпитализировали в нейрохирургическое отделение, и мы готовились к исследованию. Моя бедная малышка громко кричала в манипуляционной, где ей никак не удавалось установить внутривенный катетер для введения наркоза и контрастного вещества во время исследования. Меня трясло, знобило, сердце колотилось бешено. Я была пропитана чувством надвигающейся беды.
Я понимала, что могут обнаружить опухоль или гематому в заднечерепной ямке. И хотя я видела, что симптомы были и стволовые, и мозжечковые, но была уверена, что это не ствол. Я думала, что объем рядом с ним, в мозжечке или в четвертом желудочке, что наиболее характерно для детского возраста. А на ствол происходит давление, поэтому есть стволовые симптомы.
Мой мозг просто отказывался думать, что патология может быть в стволе. Это такая небольшая структура в глубине головного мозга человека, размером с палец примерно, в верхней его части есть утолщение, называемое мостом. В нижней ствол переходит в тонкий спинной мозг. по сути, он соединяет полушария головного мозга со спинным мозгом. Каждый миллиметр этого образования напичкан точечными центрами, откуда берут начало все функции организма. И центр дыхания, и кровообращения, и глотания, и регуляции пищеварения, секреции, мочеиспускания, все нервы, отвечающие за движения глаз, мимики, языка находятся тоже в стволе. С учетом того, что через эту структуру проходят проводящие пути от полушарий головного мозга к спинному мозгу, при патологии в стволе не будет ни движений, ни чувствительности, ни работы организма вообще! Ствол не подлежит оперативному лечению, потому что невозможно не задеть эти самые важные центры, когда хирургический инструмент проникает в структуру для удаления опухоли. Смерть может наступить прямо на операционном столе. Даже точечную биопсию, по сути- прокол, и то могут делать только очень опытные нейрохирурги, и только с соответствующей оптикой и микрохирургическим инструментом. Один миллиметр вправо-влево- и либо смерть человека, либо серьезные нарушения после операции в виде параличей, невозможности самостоятельного дыхания. Поэтому крайне редко делают даже биопсию- слишком опасно.
О том, чтобы у моей малышки был задет не ствол, я и молилась во время проводимого исследования. Муж спросил, почему я так горько плачу, ведь еще ничего неизвестно, и почему все время причитаю: «Господи, умоляю, только не ствол!» Я ответила что ствол- это конец, точно смерть человека, а все остальное имеет результаты лечения. Во времена ординатуры, когда попадалась «опухоль ствола», мнение врачей было однозначным: ситуация безнадежная, потому что опухоль в этом месте неоперабельна, на сегодняшний день не существует лечения, которое приносило бы эффект. Я даже не знала, куда дальше идут такие пациенты- в РДКБ такими ситуациями не занимались. Эти опухоли довольно редкие, в те времена, когда я работала в Саратове, мне ни разу такой случай не попадался.
Мы с мужем ждали окончания исследования в коридоре. по его лицу я видела, что он не верит до сих пор, что с его драгоценной дочкой может быть что-то серьезное, а тем более те ужасы, о которых я ему рассказала. Я и сама не верила! До последнего не верила, что это может произойти с моей малышкой.
После исследования я искала ответы на лицах специалистов, которые были в кабинете, спросила даже, набравшись наглости: «Нашли что-то?» Все отводили глаза в сторону и лишь говорили, что все расскажет лечащий врач. Я поняла- что-то нашли…
Почему я так подробно описываю этот ранний этап диагностики и всего происходящего, спросите вы? Да потому что это был самый кошмарный в моей жизни! Подозрения, неизвестность пугают, убивают, но до последнего теплится надежда, что ничего не подтвердится, что все будет хорошо. А потом все встает на места, и ты узнаешь правду. Мир просто обрушивается в одночасье. Один-единственный день разделяет жизнь на до этой правды и после.
Нас разместили в палате еще с тремя детками и их мамами. У всех разные диагнозы, кто-то на химии после удаления опухоли, у одной девочки водянка головного мозга, еще у одного малыша внутричерепная гематома. Конечно, все мамы считают, что у их деток самый страшный диагноз, ведь болеет самое родное существо на свете! Ближе мамы, папы, брата, ближе любимого мужа. Ни за кого мать не будет так переживать и волноваться, как за свое дитя! Наша малышка отходила после наркоза трудно, с рвотой, беспокойным поведением, металась из стороны в сторону, потом повысилась температура. Это может быть реакция на наркоз, но все же он был коротким, и я думала, что ей могло бы быть и полегче. Я продолжала плакать, видя мою Сонечку на больничной кровати, с перевязанной ручкой, где был катетер. Ведь она у меня такая ранимая и пугливая! Так всегда боялась всех белых халатов! Ей никак нельзя тут оставаться!
Несколько часов в ожидании и неизвестности… Уже началось дежурство, и я могла узнать обо всем только у дежурного врача. Хотя и была уверена, что узнали о нашем диагнозе сразу все врачи, как только провели компьютерную томограмму. Ведь там сразу на экран выводится изображение мозга и того, что, кроме него, в черепной коробке. Сколько раз я сама стояла за экраном во время исследований и смотрела, как срез за срезом появляется то, на что мы приходили посмотреть внимательно. Когда находят что-то серьезное, и тем более перед выходными и праздниками, врач компьютерной диагностики сразу сообщает по телефону заведующему. Всю схему я знала прекрасно. И при этом никак не могла решиться выдернуть врача и узнать правду. Да и сам врач тоже не жаждал открытого разговора с родителями. Очень сложно первым сообщить родителям «у вашего ребенка рак». Хорошо еще, если при этом можно добавить «но не волнуйтесь, в наше время это оперируется и лечится». А если нет? Если нужно сказать, что болезнь неизлечима и ребенок скоро умрет? Каково это? Услышать о раке у родного, любимого ребеночка- это всегда и для всех невероятное потрясение. Но узнать, что болезнь лечению не подлежит- непередаваемое горе. Такого не просто не пожелаешь врагу- сложно представить, что вообще кому-то это говорят и люди могут дальше жить, а не получить инфаркт на месте.
И вот наш час пробил. Мы с Мишей вошли в кабинет, где я сразу увидела наши снимки. Задала один вопрос: «Надеюсь, это не опухоль ствола?» Молчание. Взгляд в сторону. Тяжелый вздох. И ответ:
Это ствол…
Так как перед этим я уже говорила мужу, что такое ствол, понял и он. Больше ничего не говоря, мы просто зарыдали оба. Я понимала, что, пока врач в моем распоряжении, нужно максимально выяснить у него все, ведь я не знала подробностей и нюансов. Кое-как взяв себя в руки, я спросила размеры, в каком отделе ствола опухоль, что нас ждет дальше, может быть, есть какая-то лазейка, надежда на спасение. Он ответил, что она довольно большая, 3,5*4 см, занимает весь мост ствола. Есть мизерная надежда, что она имеет не диффузный рост, а отграниченный, но это может показать МРТ хорошего качества с контрастным усилением. На него очередь, так как проводится исследование в другой больнице, придется подождать. В целом прогноз все равно очень плачевный…
Мы вышли на ватных ногах. Я реально не соображала ничего в тот момент. Жизнь из счастливой, наполненной превратилась в разорванные клочки, где клочки- это мое сердце и душа. Я была просто опустошена. Мы вернулись в палату, сдерживая рыдания. У меня получалось всю дорогу плохо. Мишу всего трясло, но он держался получше, ведь уже проснулась наша Сонечка и смотрела на нас испуганными глазками.
Я смотрела На доченьку, и один за другим пролетали наши счастливые деньки. Вот я беременная, счастливая, мы втроем с Лешей идем на 3D-УЗИ. Срок 20 недель, нам показывают головку, ручки малыша, мы считаем пальчики все вместе, смотрим, как малышок сосет пальчик. И тут нам показали «кофейное зернышко» и сказали, что это девочка! Я так счастлива, что слезы сами полились из глаз! Да и Миша хлюпает носом от увиденного и услышанного. Малышка здорова, все развивается хорошо и в срок.
Вот мою малышку кладут мне на живот как награду за многочасовые боли во время схваток. Сонечка зажмуривается от света, я шепчу ей «приветик» и ласковые слова. Она открывает потихонечку глазки, смотрит на меня. Я говорю ей: «Ну, здравствуй, моя доченька! Мы так долго тебя ждали!»
День за днем скакали из разного периода нашей с ней жизни и все время мы с улыбкой, радостные и счастливые!
Отрывок из книги «Исповедь одной матери», Ольги Антоновой
Моя третья беременность протекала нормально, - рассказывает солигорчанка Инна Курс, - и я, в ту пору мать двоих деток (старшей дочери Кристины и сына Максима), ни о чем не беспокоилась, была уверена, что у меня родится здоровый ребенок. Но младшая дочка родилась с серьезной проблемой, на первые сутки девочка попала в реанимацию, на вторые - УЗИ показало у моего ребенка порок сердца. Врачи говорили, что Аленка перерастет. Но в кардиоцентре в Минске сказали срочно делать операции. Сначала было три внутренних, но клапанный стеноз был очень серьезный, и было принято решение резать. Три часа шла операция, моей Аленке не подошла кровь. Консилиум принял решение зашить и искать ее редкую кровь, за выходные нашли один пакет такой донорской крови, и, слава богу, она оказалась подходящей. Нас выписали 4 марта 2011 года. Кардиологи не гарантировали, что стеноз не вернется, началась реабилитация, а через год в марте мы должны были приехать на переосвидетельствование. Вроде все нормально, год почти прошел, и тут на ножках у дочери появляются синяки и то понижается, то повышается температура. Вызываем педиатра, нам назначают уколы. Я колю - а у ребенка фонтаном бьет кровь, Аленка вся становится зеленой, ей все хуже и хуже. А как раз суббота. Тогда еще мы жили в Уречье, зятя вызываем, едем в приемное в Солигорск. Там сразу понимают, насколько все у дочери серьезно. У ребенка внутреннее кровотечение, а перевезти в Минск не могут, тромбоциты на нуле. Потом привезли тромбоциты, на реанимобиле в Минск. Мне ничего не говорят, и привозят в онкогематологию. А я думаю, что ровно через год, 4 марта 2012 года снова начались наши мытарства. И спрашиваю, почему сюда. А мне говорят: «Исключить заболевания крови». Ну, исключить и исключить. Сразу приехали моя дочь и племянник, а я им говорю: «Скоро нас в областную переведут, после анализов». Рассказываю им, как женщина лежит в палате, паренек ее спит, штативы вокруг всякие, капельницы пикают, а она спокойно так и радостно звонит кому-то и рассказывает, что у них лейкоциты поднялись, как они могут радоваться, смеяться, если ребенок с онкологией. Мои родственники слушают и глаза отводят… А на завтра врач меня вызывает и говорит: «Мамочка, у вашего ребенка лимфобластный лейкоз». Что со мной случилось, это не передать словами. Время для меня остановилось, как будто врач не мне это говорит. Я в одну точку смотрю, киваю и улыбаюсь по инерции. А она продолжает: «У вашего ребенка рак, начнем то-то делать, так-то лечить». И начинает рассказывать, а я ничего не слышу. У меня остановка времени. Пришла в палату села и застыла. Из этого ступора меня вывела Аленка, она протянула ручку и тихонько так мне: «Мама», и я подумала, что ж я делаю, хороню свое дитя. А потом дочка старшая позвонила, сказала, что перерыла Интернет, прогнозы хорошие. Потом уже в той каше начинаешь вариться и, как бы страшно это ни звучало, все выстраивается, ты начинаешь с этим жить, среди людей с такими же проблемами. Мне очень помогла женщина, которая привезла ребенка (царство ему небесное) на трансплантацию после рецидива, наш этап тогда они уже прошли, и все ее советы были очень ценными для меня.
Когда человек попадает в такую ситуацию, - рассказывает Инна Курс, - то для него естественно, что рядом станут родные. Но часто этого не происходит. Я говорю не про себя, а проанализировав много историй, которые услышала в детской онкологии. Да, конечно, твои близкие люди переживают. Но… Например, звонит подруга, и спрашивает: «Как ты?». Ну что говорить, отвечаешь, что нормально. И она, например, начинает рассказывать про свои ссоры с мужем или про шопинг, какие-то вещи незначимые. Хочется сказать: «Что ты делаешь? Зачем мне это?». У нас, у тех, у кого на карту поставлено здоровье и жизнь ребенка, уже другие ценности, наше мышление перестроено на новый лад. Начинается фильтрация отношений, смысла жизни. Или такая позиция родных, как осуждения, перемалывания, непонимание нервных срывов, от которых никуда не деться, потому что находишься в постоянном напряжении. Близкие поплакали, но сутками с этим не живут. Их никто не осуждает, понимая, что трудно понять ситуацию. Надежды на близких чаще не оправдываются, и родители онкобольных детей сначала остаются наедине со своей проблемой. Это реально страшно, когда ты осознаешь, что тебя не понимают близкие. Но потом появляется другой круг, и может быть, он более настоящий, в нем те, кто столкнулся с таким же. Кроме старшей дочери, мне как родная сестра стала подруга из Дзержинска, у которой болен сын. Мы можем не созваниться, но мы знаем, что мы рядом. Сейчас я уверена, что у меня есть те, кто подставит мне плечо, что бы ни случилось. Как правильно себя вести близким? Главное - не жалеть нас, а поддержать. Не списывать со счетов ни нас, ни наших детей, не расспрашивать о болезни, а дарить позитив, внушать веру в то, что все будет хорошо, и мы все победим. Онкология не выбирает, бедный ты или богатый, хороший или плохой, никому не ведомо, за что она, для чего она? Не надо копаться, ковыряться в причинах, нужно принять ее, как данность, и научиться с ней жить. Длительность лечения Аленки по графику составляла 105 недель, но продлилось больше - мы справились, моя дочь в ремиссии.
В детской онкологии мы были как одна большая семья, - рассказывает Инна Курс. - И хотя материальное в случае с больными раком детьми очень значимо, но помощь - это не только деньги. Я решила, что буду оказывать посильную помощь всем, кто попал в такую ситуацию. А после того, как похоронили Димочку Шаврина и Антошку Тимченко, мне мамы сказали: «Инна, ты сама в нужде, вам нужна помощь!» И была организована акция по сбору средств для Алены. Благодарна Ирине Крукович, председателю Солигорской районной организации ОО «Белорусский фонд мира», когда я пришла в ФОК, где проводилось мероприятие, не передать, что со мной было, ко мне подходили люди, рассказывали свои истории. А потом про Алену вышла статья, и мне звонили (с некоторыми мы и сейчас дружим, стали близкими), приходили незнакомые люди из соседних домов, а я стояла и плакала. Иконочки несли. И это самое сильное - вот такая психологическая поддержка. Да, в мире много равнодушия, но много и тех, кто готов помочь. Даже вот смотрите, я часто собираю нашим деткам лекарства через Интернет, иногда их нет в Беларуси, а можно купить в России, Польше или Германии. И люди отзываются, представляете, незнакомые люди - а иногда меньше суток пройдет - и уже лекарство нашли. Неравнодушные встают рядом с тобой, и ты не можешь отблагодарить каждого.
Это господь помогает больным детям руками людей. Человек, который делает благое дело, как правило, сделал - и забыл. А тот, кто много разглагольствует, или кичится: я дал! - к тому особое отношение. Знаете, если человек сомневается хоть чуточку - дать или не дать, лучше не давать. Чем потом сидеть и думать, лучше не давать.
Наши дети сильно распестованы, - делится Инна, - и хотя все родители знают, что надо вести с ними себя так, как со здоровыми, но у нас не получается, это происходит незаметно для нас. Мы выворачиваемся наизнанку, чтобы спасти ребенка. Что греха таить, мы не знаем, что будет завтра, мы даже в ремиссии на пороховой бочке. Завтра может и не быть. Я понимаю, что лейкоз - агрессивная форма онкологии, бласты - раковые клетки, имеют свойство прятаться. И когда родитель это осознает, то старается максимально дать ребенку, что только можно. Поэтому у наших детей современные игрушки и гаджеты. В детском саду тоже сложно, иногда не понимают, почему ребенок нервничает, проявляет агрессию, а такие дети были выдернуты из социума, нагрузка на психику была непомерной. Я боюсь и физических нагрузок, между тем Алена уже спрашивает меня: «Почему мне нельзя на танцы?». Онкология до конца не изучена. Никто не знает, что может спровоцировать рецидив. Рецидив - самое страшное в нашей ситуации.
Не обделены ли мои другие дети? Думаю, нет. Мы люди воцерковленные, каждый все понимает. Старшая дочь у меня уже взрослая, у нее двое деток, а сын Максим живет с нами. Ему было 9 лет, когда Алене поставили диагноз. С ним была моя мама, когда они приехали нас проведать, я поговорила с ним по-взрослому. Сказала: «Сынок, Алена сильно заболела, эта болезнь смертельная, ты мужчина. Мы несем ответственность, мы вместе, мы семья». Сын вырос самостоятельным, он учится в 14 школе, туда же пойдет в сентябре и Алена. Дети есть дети, у них бывает всякое, споры, ссоры, но они любят друг друга.
Неполные два года я в организации «Белорусская ассоциация помощи детям инвалидам и молодым инвалидам», в руководстве, но в основном там приходится решать проблемы детей с ДЦП И синдромом Дауна, а с онкологией мы с Аленкой там одни. Когда не касаешься непосредственно, сложно понять, вникнуть глубоко. В этом году я предложила вернуть в Солигорск первичку организации «Дети в беде», которая занимается именно проблемами онкологических детей. Пока не бросила ту организацию, но понимаю, что эта - то, чем я хочу заниматься, мне звонят родители детей с онко, вот обратилась бабушка Стефана Одинца, потом женщина с больным сыночком. Все же проблему организации лучше знать не по книжкам. Я даже получила благословение своего духовного отца. Он сказал: «Инна, ты делаешь благое дело - бог поможет», поэтому я уверена, что солигорское отделение «Дети в беде» скоро появится.
У меня есть списки наших больных детей. На 31 сентября 2015 года у нас было 34 ребенка с онкологией, еще и года не прошло, а сейчас 37 их уже, сыплются, как горох. Но, слава богу, после смерти Димочки Шаврина никто не ушел. Уже будет три года, как мы его похоронили….
Тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации, надо знать одно - она не безвыходная, - советует Инна Курс. И какими бы трудными ни казались испытания, мы их вынесем. Надо быть уверенным, что справишься. Я заметила, что помощь приходит тогда, когда ты что-то отдаешь. Причем, это должно быть состояние души, а не помощь ради галочки. Если есть сопереживание, милосердие, если ты будешь уметь отдавать, то в трудную минуту придет помощь и к тебе. Господь помогает - и открываются те двери, которые ты считал закрытыми. Самое страшное - это опустить руки и плакать, надо действовать, надо жить. Я поняла это, когда Аленка протянула мне руку и позвала меня в палате. Итак, улыбочку, позитив, не думаем о плохом, а идем, идем, идем….
Записала Варвара ЧЕРКОВСКАЯ
В Москве прошли VII Всемирные детские игры победителей. Это спортивные состязания для детей, перенесших онкозаболевания, которые ежегодно организует благотворительный фонд «Подари жизнь».
Дети соревнуются в пяти видах спорта: легкая атлетика, плаванье, настольный теннис, стрельба, футбол, шахматы. В этом году в соревнованиях принимали участие более 500 детей от 7 до 18 лет из 15 стран: Белоруссии, Украины, Болгарии, Венгрии, Германии, Индии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Румынии, Сербии, Турции, Хорватии и Португалии. Мы побеседовали с несколькими победителями.
Барбара Барна, 14 лет, Венгрия
Острый лимфобластный лейкоз.
Настольный теннис - золото. Стрельба из винтовки - серебро.
У меня обнаружили рак два года назад. Все случилось очень быстро - однажды я почувствовала боль в горле, мы пошли к врачу и анализ крови показал очень высокий уровень лейкоцитов, лимфоцитов. Мы сразу отправились в больницу, анализы стали еще хуже. Мне сделали пункцию костного мозга, и стало понятно, что все плохо.
Мы переехали из маленького города, где я живу в большой город, в больницу. Маме разрешили жить в больнице, и каждое утро она уезжала на работу, а потом возвращалась. Отец тоже был со мной практически все время, следил за лечением. Также в больнице были две учительницы, которые занимались с детьми. И мне очень помогала преподаватель английского языка Анна. Она рассказывала нам, что каждый день надо проживать не просто так, надо стараться что-то сделать, как-то развиваться каждый день.

Конечно были и тяжелые моменты. Мне было очень страшно осознавать, что я не знаю, что будет завтра. Иногда бывало так, что вечером я засыпала, а на утро кого-то из моих соседей, таких же детей, как я, уже не было.
Но я старалась, я понимала, что, когда болеешь, главное - настрой. Выздороветь или сдаться - мы решаем в голове. Должны быть только положительные мысли, стоит поменять настрой, и ты почти умер. Химиотерапия разрушает человека, она разрушает все, и поэтому так важно заставить себя правильно настроиться и понять, что сдаваться нельзя. Тогда начинает заново строиться то, что разрушила химиотерапия.
Иногда я задавала себе вопрос: почему я продолжаю жить, почему мне стало лучше, а не тому мальчику, которому четыре года, не другим детям? Почему жизнь выбрала меня, а не их? И потом я поняла, что не нужно об этом думать. Нужно только знать, что жизнь дана мне не просто так, я должна двигаться дальше, и радоваться, что живу.

Также я бы хотела оставить сообщение для родителей и детей, которые болеют тяжелыми болезнями: иногда чрезмерная опека и постоянное присутствие родителей очень раздражает. Но надо оставаться спокойными - и родителям, и детям. Родителям надо поменьше опекать и беспокоиться о детях, а детям понимать, что родители донимают вас своей заботой не специально, они просто очень волнуются, очень хотят помочь.
Гарбар Антон, 15 лет, Украина
Лимфогранулематоз.
Бег – серебро, футбол - золото.

Гарбар Антон
Я начал лечиться в городе Ровно три года назад. Но еще раньше, в третьем классе, у меня начали лезть на шее лимфоузлы. Мы пошли в нашу районную больницу, и там нам посоветовали просто прогревать горло. Я принимал антибиотики, лимфоузлы немного уменьшились. Потом мы продолжали лечиться дома народными методами, но болезнь не уходила. Тогда наш знакомый хирург посоветовал сделать биопсию. И тогда мы узнали, что у меня уже вторая стадия рака.
Я не мог поверить, что у меня рак. Я профессионально занимался футболом, и когда зимой меня забрали на операцию, я планировал сразу же после нее поехать на тренировку. Но в результате я лечился до конца лета. Первые несколько недель я лежал безвыходно в палате, весь обвешанный катетерами и капельницами. Я даже плакал, так как эмоционально было очень тяжело.

Но потом я привык и радовался уже просто тому, что жив. Я прошел четыре блока химиотерапии, а потом сеансы лучетерапии. Когда мы последний раз ездили в Киев, анализы не показали наличие раковых клеток. Я почувствовал огромное облегчение - больше не будет химий, гормонов, я свободен.
Я не жалею, что был болен, я получил настрой на жизнь. Теперь мне странно слышать, когда мои друзья при малейшей проблеме - что-то не получилось, поссорилась с пацаном и т. п. - готовы резать себе вены. Это неправильно. Ты живешь, у тебя все есть, ты не лежишь под капельницами, ты не находишься на гране смерти, так цени жизнь, живи сейчас, меняйся и меняй мир к лучшему.
Селиверстов Дима, 17 лет, город Железнодорожный
Медуллобластома.
Стрельба из винтовки - серебро.

Я заболел в апреле 2013 года. Все начиналось обыденно - по утрам немного кружилась голова и штормило из стороны в сторону. Но врачи говорили, что это возрастные проблемы подросткового возраста. И все же мама настояла, чтобы мне сделали МРТ мозга. МРТ показало, что у меня рак на ранней стадии.
Мы сразу же обратились в клинику им. Бурденко. Мне сделали операцию, потом была лучевая терапия в Центре рентгенорадиологии, и химиотерапия в Онкологическом центре в Балашихе.

В начале лечения я был полностью растерян. Я не понимал, что делать, какой смысл бороться дальше и как бороться с болезнью. Лечение проходило очень сложно, я буквально учился заново ходить после операции, а когда девять месяцев шла химия - это было невероятно тяжело.
Под конец я уже настолько ослаб, что практически не было ни сил, ни желания бороться. И тогда у меня возникла идея собрать в модельном варианте весь наш Автопром - от первых машин до современных - и сделать выставку в школе. Я созвонился с учителями, они одобрили идею, и за два дня я сочинил текст и выставил мою коллекцию. Это было грандиозно, такой эмоциональный всплеск, я снова захотел жить.
Лечение закончилось два месяца назад. Когда вчера на соревнованиях по бегу я пришел последним и огорчился, мама напомнила мне, что еще недавно, я не мог ходить.

Ханна Тильманн, 16 лет, Германия
Пилойдная астроцитома.
Плаванье - золото. Бег - серебро.

Я заболела, когда мне было пять лет. Меня привезли в больницу и прооперировали. Мои родители и брат меня постоянно поддерживали.
Я очень плохо помню, как чувствовала себя в то время, ведь мне было всего пять лет, но терапия продолжается до сих пор - гимнастика и эрготерапия. Это достаточно напряженные занятия раз в неделю, но я привыкла.
Сейчас я чувствую себя отлично, мне очень нравятся соревнования.
Потапенко Ангелина, 8 лет, город Тамбов
Острый лимфобластный лейкоз.
Стрельба из винтовки - серебро. Футбол - бронза.

Я заболела, когда мне было четыре года. Я помню только как меня вынесли из тамбовской больницы на руках в машину, мы приехали на вокзал, а потом поехали на поезде в Москву.
Я болела два года. Мне капали лекарства, делали операции, я прошла химиотерапию. Со мной всегда была мама и двоюродная сестра.
Иногда я вспоминаю то время, когда я болела, но говорить об этом теперь мне не хочется.
Сейчас я чувствую себя хорошо. Иногда мне приходится сдавать кровь, и я пью лекарства.



















Детская онкология глазами пап
5 честных историй о чувствах и настоящем мужестве.
Около месяца назад детей с онкологическими диагнозами рассказать о своих чувствах после диагноза и во время лечения. Мы сделали это, потому что нам кажется нечестной установка «мальчики никогда не плачут». Нам кажется, быть папой больного ребенка адски тяжело еще и потому, что запрещено рассказывать, что тебе тяжело.
В качестве подсказок мы сформулировали следующие вопросы:
Что почувствовали, когда поставили диагноз? Каково это было? На что похоже? С чем можно сравнить?
- Как справлялись с этими чувствами? Обдумывали, переваривали, отодвигали, заменяли действиями, разговаривали с психологом и т. д.
- Для самых смелых - чего боялись? И как справлялись со страхом?
- Какую роль взяли на себя в лечении? (Искали информацию, легли с ребенком в больницу, обеспечивали тыл, воспитывали других детей, организовывали сбор и т. д.) - Почему именно эту роль?
- Что в исполнении этих ролей давалось вам легко? А что тяжело? Что вы придумали, чтобы упростить то, что тяжело?
И получили в ответ 5 историй. Очень честных.
Алексей, 41 год, папа Дениса (острый лимфобластный лейкоз)
До того как поставили диагноз, мы месяца три ходили по врачам в попытках выяснить, почему у ребенка увеличились лимфоузлы. И, естественно, копались в интернете. Про лейкоз я начал думать почти с самого начала, но гнал от себя эти мысли. Жена на эту тему даже разговаривать не хотела. К моменту постановки диагноза я уже много начитался про лейкозы и знал, что такое бласты и т. д.
После очередной сдачи крови мне позвонила заведующая из поликлиники и сказала, что кто-то из родителей должен срочно с ребенком прийти к ней. Объяснять по телефону она ничего не стала. Я сорвался с работы и примчался. А она мне показала анализ, где жирно красной ручкой было написано «бласты». Вот тогда у меня земля ушла из-под ног.
Дальше все как в тумане. Скорая прямо из поликлиники повезла жену с ребенком в больницу. Я помчался домой собирать вещи, потом в больницу, потом опять домой и опять в больницу как-то на автомате. В голове был туман.
Самое жуткое было вечером, когда я приехал домой и остался один. Если папы говорят, что они ничего не боятся, я думаю, они кривят душой. Откровенно могу сказать, что это был даже не страх, а жуткий ужас на душе. Я в первую ночь один не уснул ни на секунду. Но диагноз еще был не поставлен. И от этого, наверное, было еще страшней.
На следующий день была пункция и диагноз - острый лимфобластный лейкоз. Вот тогда я как будто вынырнул из какого-то глубокого колодца. Пришло осознание, что это уже случилось и надо что-то делать, и страх стал другой: вдруг не заладится лечение или что-то пойдет не так.
Все время надо было что-то делать. До обеда работа, потом домой, сборы в больницу, из больницы опять домой. Готовка, стирка, глажка до полуночи, пару-тройку часов сна и опять все по новой.
Помогло то, что я до женитьбы несколько лет жил один, да и военный к тому же, в общем, делать умею все. Про себя на все время, пока мои были в больнице, я как-то забыл даже. Не мог вспомнить, поел я или нет, и что поел. Видимо, наверное, ничего особо-таки и не ел. За три недели похудел на 15 кг. А еще было невыносимо от того, что не могу увидеть сына. Видел только один раз - в окне на втором этаже, когда поставили систему подлиннее, и жена в окно показала его.
Когда отпустили домой, стало гораздо спокойней и лучше. Постепенно все наладилось. Жена дома с ребенком. Я на работе, потом по магазинам и домой. Два раза в неделю ездили на амбуланс. И так было до выхода в ремиссию и начала консолидации.
После третьего 24-часового метотрексата нас отпустили домой, а на следующий день на скорой с температурой 39,9 увезли в больницу: осложнение на кишечник. Две недели температуры, слезла слизистая в кишечнике, ожоги во рту и, видимо, внутри везде. Литры антибиотиков и еще куча всего. Ребенок не ел ничего. Просто таял на глазах. Начали даже подозревать опухоль в кишечнике. Вот тут опять появился этот жуткий страх. Как раз были майские праздники, и мои на первом этаже несколько дней лежали вообще одни. Я практически жил в больнице. Только ночевать уезжал домой. Потом была колоноскопия. Опухоль не нашли. Постепенно все пришло в норму. Потом было обычное лечение, как у многих, монотонно, с побочками и приключениями. Два раза ребенок ломал ноги, и оба раза в больнице, прямо там гипс и накладывали (лечение влияет на хрупкость костей).
Потом на второй год лечения у Дениса родилась сестренка. Мы назвали ее в честь любимой процедурной медсестры. Дальше мы ездили в больницу без мамы, и сын очень переживал поначалу из-за этого. Думал, что папа не справится один. Я его успокаивал, говорил, что я все знаю и умею. Я же все время с ними ездил. Но ничего, прорвались и закончили протокол.
У нас в семье я добытчик и извозчик. А еще массовик-затейник и клоун в одном лице. А мама отвечает за тыл. Я еще шучу иногда, что мама у нас дома - министр сельского хозяйства и начальник тыла, а я - министр транспорта и министр иностранных дел.
Как папа говорю: страх есть, и не меньше, чем у мамы. Есть всегда. Когда берешь в руки очередной анализ, когда рассматриваешь синяк на ноге, который принесли из школы, даже когда прислушиваешься ночью к дыханию ребенка, хотя прошло после лечения почти два года. Когда приезжаешь в отделение и снова видишь в палате того, кто закончил лечение с вами вместе или даже раньше вас. И я думаю, он никуда не денется, этот страх, разве что не такой сильный станет со временем. Это же естественно - страх родителей за своих детей, и не важно, папа это или мама.
Роман, 31 год, папа Ильи (острый лимфобластный лейкоз)
Многое из того, чем я раньше занимался, в момент потеряло смысл. Ни деньги, ни должность, ни связи никак помочь не могли.
Моему сыну было 3 года, когда поставили диагноз. Первые дни были ужасными. Все как в кошмарном сне. Мы навели справки по поводу лечения - во всех источниках сказали, что нет смысла менять место лечения и надо довериться тем врачам, к которым мы попали. В больницу с сыном легла жена, и все мои обязанности свелись к «обеспечению тыла»: привозить каждый день в больницу еду, одежду, лекарства. Оставалось время на то, чтобы все «переваривать». Конечно, возникал вопрос «За что?». Я винил себя за то, что мало времени уделял ребенку. В определенный момент я стал ненавидеть все, на что я тратил время до болезни сына - работу, хобби, интернет.
Вообще было странное ощущение, как будто смотрел на свою жизнь со стороны. Многое из того, чем я раньше занимался, в момент потеряло смысл. Ни деньги, ни должность, ни связи никак помочь не могли.
Я считал себя верующим православным человеком, но при попытках найти ответы на свой вопрос быстро понял, что почти ничего не понимаю в своей вере. Начал почти все свободное читать евангелие с толкованиями, это очень помогло. Пришло понимание, что не все зависит от тебя. Что никто не виноват в ситуации. Что никаких гарантий ни на что в жизни не существует. Что самое ценное, что можно дать близким, - это время, любовь и внимание.
Проще стало примерно через две недели.
Выйти из прострации также помогало чувство ответственности. Врачи доступно объяснили, что при лечении критически важно строгое соблюдение требований по стерильности и гигиене. И это - ответственность родителей. И для этого надо быть в адекватном состоянии, а слезами и эмоциями лечению никак не поможешь.
Серьезную поддержку мы получили от других родителей из нашего отделения. Это было удивительным открытием, что сторонние люди в любой момент готовы помочь, поддержать, подсказать. Вдохновляло общение с людьми, которые успешно закончили или заканчивают лечение.
Из процедур больше всего пугала пункция. Врачи дали возможность нам с женой присутствовать на пункции и вместе с ними держать сына. Было очень тяжело. Но дальше - легче. Позже один из взрослых ребят, которые лечились в отделении, сказал мне: «На пункции просто очень страшно, но это не больнее, чем укол в попу». Постарайтесь быть с ребенком на пункции, если будет возможность.
В моей жизни эта беда многое изменила и многому научила. Я осознал свои страсти, в первую очередь, гордость и тщеславие, начал с ними бороться. По-другому отношусь к своей вере, изучаю священное писание и учусь молитве. Раньше на это всегда времени не хватало, находились «более важные дела». Сейчас именно молитва всегда спасает в тяжелых ситуациях. Вообще, многие вещи воспринимаются по-другому. Совершенно космические эмоции сейчас дает общение с ребенком.
Антон, 27 лет, папа Полины (4 года, острый лимфобластный лейкоз)
Моя дочь заболела в феврале 2017 года. Они с женой лежали в больнице, и мы ждали результат анализа. В этот день я собирался ехать к ним: проведать, отвезти продукты и одежду. Я был в дороге, когда позвонила жена и сообщила то, что перевернуло все в этой жизни. После сказанного я не мог понять, что происходит, как это, почему, за что, за что ей. Просто мысль, что она больна онкологией, не укладывалась. Я не верил, это не могло быть правдой, была надежда, что это ошибка, такое ведь бывает. Я приехал, все отдал. Мы обсуждали и плакали. Были слезы, много слез, я не сдерживал их, так было легче. Это не сравнить, на что похоже. Для меня душевная боль, мысли, терзания были как адовы мучения. Физическая боль несравнима, я могу многое вытерпеть, но внутренние страдания невыносимы. Все вместе похоже отдаленно, будто меня отправили в нокаут. В таком состоянии я проходил три дня.
Я не мог справиться с этими чувствами, мысли одолевали меня, не мог есть нормально, спать, работать. Но после трех дней я стал немного успокаиваться, осознал, что я не должен сходить с ума, мне нужно кормить их, помогать, любить. Постепенно мысли я заглушил работой, домашней суетой, помощью.
Также были родные рядом - родители, которые тоже помогали, поддерживали, хотя им тоже тяжело было осознать все происходящее. И мы собрались с силами и отодвинули боль глубоко-глубоко. Когда я приезжал к ней, видел ее, я хотел плакать, но не давал себе воли. Когда первый раз приехал на процедуру (пункцию), услышал ее крики, как она зовет на помощь, я ненавидел себя, презирал, что ничем не могу ей помочь, уберечь ее от боли. Но когда я видел, что она улыбается, когда врач говорил, что у нас хорошие анализы, я чувствовал легкость, надежду, что самое страшное обойдет нас стороной.
Я боялся и до сих пор боюсь услышать самые страшные слова: «Рецидив, мы не можем ничем больше помочь». Страх отошел сам, когда я забрал их домой, когда они все оказались рядом, когда дочка смеется, играет, разговаривает. Когда пошла прежняя жизнь, но по-новому. К этому быстро привыкаешь.
Во всем этом я принял сторону помощи: работа, дом, уборка, готовка по возможности - в общем, все физическое, что тяжело для жены, потому что ребенок забирает много сил. Выбрал я это потому, что в труде мне легче переносить переживания, да и помощь в этом от меня более эффективная. Боялся навредить, если бы лежал, например, с ней, вдруг я что-то не так сделаю. Да и ребенку легче, когда рядом мама. Ведь все мы знаем, что с мамой боль и страдания легче переносить, эта связь крепка, папа на втором месте, и я с этим не спорю.
У нас как-то так сложилось, что каждый занялся тем, что приносит больше пользы. Для меня тяжело только то, что когда дочь принимает препараты, настроение ее меняется или она заболевает, пропадает ее радость и улыбка. Она плачет, и это тяжело, очень хочется всю боль ее забрать на себя, чтобы только она не страдала. Менять что-то я не стал, тут ничего не поменяешь, просто терплю, и идем дальше шаг за шагом к заветным словам «ВЫ ЗДОРОВЫ».
Я сам по себе тихий и всегда любую боль, обиду по большей части держу в себе. Я не искал поддержку целенаправленно. Кто из знакомых узнавал, тот поддерживал. Я стараюсь меньше говорить об этом. Я знаю, что должен семье давать поддержку. Быть с ними - это главное.
Страдания и слезы - они не помощники, они не помогут поправиться, не помогут быть радостными, не помогут объяснить ребенку, что все хорошо и он поправится. От них не избавиться, но на их место надо поставить радость, что твой ребенок улыбается, силу ответственности, чтобы помогать, кормить, вести обычный образ жизни с малыми изменениями. Нужно идти вперед и только вперед, расчищая путь для победы.
Сергей, 32 года, папа Лизы (5 лет, острый лимфобластный лейкоз)
Что почувствовали, когда поставили диагноз?
Шок, опустошенность и непонимание, как такое случилось. Пару дней после постановки диагноза не мог поверить, что все это происходит наяву. Казалось, врач зайдет и скажет: «Мы ошиблись, у вас (вставить любую фигню)».
Как справлялись с этими чувствами?
Поначалу появилось много новых забот, правил и всего того, что приходит с диагнозом. Так что старался не забивать голову и просто максимально ушел «в дела».
Чего боялись? Как справлялись со страхом?
Как только прошел первый шок и я осознал, что ребенок реально болен, начался п-ц. Если днем еще получалось не думать о страшном и сосредотачиваться на делах насущных, то ночью просыпался какой-то дикий животный страх за ребенка. Не адресный «боюсь того-то и того-то», а именно животный тупой страх. Смотрю на спящую дочку и беззвучно ору и реву. Сам особо не понимая, что именно пугает. Дня через три я начал спать ночью, потому что организм уже подустал от таких «бодрствований».
Какую роль взяли на себя в лечении? Почему именно эту роль?
Я лег в больницу с дочкой. Нам так было проще финансово и мне в больнице полегче, чем жене. Проще поддерживать личную гигиену и чисто физически: взять ребенка на руки и все такое.
Что в исполнении этой роли давалось вам легко, а что тяжело? Что вы придумали, чтобы упростить то, что тяжело?
План, план и еще раз план. Когда набегает куча повседневных обязанностей, спасает только планирование и график.
В чем искали поддержку? Где ее получили, где не получили?
Основную поддержку в моральном плане я получил от жены. У нас теплые и близкие отношения, поэтому я мог спокойно с ней говорить о своих чувствах (хотя, видя, что она сама в схожем состоянии, сдерживался по мере сил). Также сильно помогло более глубокое изучение вопроса, что такое лейкоз, как проходит лечение. Появилось ощущение некой «подконтрольности ситуации».
От общения с друзьями, пока мы с Лизой лежали в больнице, я практически отказался. Это утомляет, все задают одни и те же вопросы. Позднее мы создали закрытую группу в соцсети, где публиковали все вопросы/ответы друзьям. Регулярно я общался только с несколькими людьми, которые были способны говорить о чем-то, кроме болезни ребенка, плюс немного работал из больницы. Я тренер по кроссфиту и продолжил тренировать, консультировать своих атлетов дистанционно. Возможность погрузиться в повседневные рабочие, а не больничные дела сильно помогла.
Очень не хватало понимания ситуации в первые 3–5 дней в больнице. В идеале хотелось бы видеть в каждой палате брошюру на 5–15 листов с какими-то простыми, но волшебными словами. С пояснениями, что происходит, что от тебя требуется. Листовки с инструкциями, чем кормить, когда убирать, как мыть нужны, но еще больше нужно именно пояснение, что происходит и каких реакций ожидать от самого себя.
Владимир, 45 лет, папа Святослава (острый лимфобластный лейкоз)
У нас в семье четверо детей. В 2016-м, когда все это случилось, старший сын уже был студентом и учился за границей, средняя дочка была в старших классах, Святославу исполнилось пять, а младшей дочери два годика.
В начале сентября Святославу днем стало нехорошо. Он улегся на пол и пожаловался на боль в боку. Я осмотрел его. В том месте, где должна быть селезенка, прощупывалось что-то большое и твердое. Паховые лимфоузлы были как горошины, поднялась температура. И проявились синяки - много синяков, особенно на ногах, словно его побили палкой.
Пока ждали скорую, жена запаниковала. Все время спрашивала, неужели я думаю, что это что-то серьезное. Хотя материнским чутьем, наверное, уже все поняла.
Выражения лиц врачей скорой после осмотра были серьезны. Нам предложили срочно ехать в инфекционное отделение. Мне пришлось стараться быть невозмутимым, вытеснять страхи, как учили в армии, пытаться структурировать алгоритм ближайших действий. Нужно было сохранить вокруг Святослава чувство защищенности, ведь врачи уже напугали его.
Наспех собрал необходимое для больницы. Завернул сыночка в одеяло, чтобы уберечь от кровоизлияний из-за возможных сдавливаний и тычков во время поездки. Святослав боялся, я успокаивал его - говорил, что все время буду с ним и не отдам его никому. Но за внешней армейской выдержкой я чувствовал, как предательски начала трястись коленка - то ли от физического напряжения, то ли от страха неизвестности, ведь за ребенка боишься сильнее всего. Гнал всякие жуткие мысли о его смерти, которые иногда рисовала моя буйная фантазия.
В больнице нас уже ждали. Осмотрели, взяли кровь на анализы, вызвали гематолога. Пока ждали результатов анализов, врачи пытались вести непринужденную беседу и даже шутить.
Принесли распечатку анализов. Повисла звенящая тишина. Я чувствовал сухость во рту, пульсацию в висках. Было похоже на страх перед экзаменами.
Ну что, говорить как есть? - спросил гематолог.
Да. Мне так легче.
Картина ясна четко. 99% лейкоз. Какой именно - сказать не могу.
Кровь у Славы на 80 % состояла из опухолевых клеток, тромбоцитов практически не было, вопрос был только в типе лейкоза. Врач сказал, что будет искать для нас койку в онкологическом отделении, а пока его задача - не дать Святославу умереть. Везти сразу было нельзя, при таких тромбоцитах возможны смертельные кровоизлияния, нужно было сделать переливание компонентов крови.
Порыдаете потом
Нас перевели в палату, поставили капельницу с раствором глюкозы.
Я ничего не мог вспомнить о лейкозе. Знал только, что это может быть смертельно. Стал думать, как об этом сообщить жене. Мне стало страшно за ее психику - выдержит ли она такие новости? Ведь ей же еще ухаживать за грудной дочерью. Я ощущал себя персонажем кинофильма, казалось, что все происходящее - не про нас. Делал все без эмоций, как робот. Фоновые звуки не воспринимал, но каждый шорох и вздох Святослава - слышал. Еще через некоторое время почувствовал сухость во рту и голодную тошноту, посмотрел на часы и понял, что уже вечер, а я весь день практически не ел и не пил.
Я позвонил жене. У нее был шок, растерянность. Не стал ее просить ничего привезти - в таком состоянии ей просто нельзя было садиться за руль.
Позвонил родственникам - в ответ рыдания… и ничего конструктивного. Эти эмоции и всхлипы - «О Господи, за что это ему» - были мне в тот момент совсем не нужны. Позвонил начальнику - у него был другой тон: он сразу сказал, чтобы я решал все свои дела сколько нужно и ни о чем не беспокоился.
В то время финансовое положение у нашей семьи было неважное. Стали мучить мысли, что делать, ведь нужны будут деньги. Когда задумался, к кому можно обратиться, почувствовал стыд - вроде как попрошайничать приходится. Из всего списка друзей и знакомых выбрал хорошего друга, бывшего начальника по службе. Коротко рассказал о случившемся. Он сразу перевел довольно много денег со своего пенсионного счета. Мне было очень неловко, но он одновременно жестко и по-доброму велел заткнуться и думать только о ребенке. Психологически эта установка мне потом сильно помогала.
Папа может!
Страх пришел позже, когда закончил все звонки и остался с ребенком один в палате. Накатила волна осознания, что мой ребенок умирает. Меня прорвало - полились слезы, в горле встал ком, я не мог дышать. Еще накатил испуг, что я сам сейчас задохнусь или умру от сердечного приступа. Я стал сквозь слезы молиться, и это помогло. Не помню, сколько это продолжалось. Потом эмоции кончились, напала жуткая, липкая усталость. Глядя на капельницу, я просто выключился.
В три часа ночи привезли тромбоциты для переливания. У Святослава все синяки стали чесаться, как будто муравьи ползали под кожей. Два часа влажными пеленками я гладил ему ножки, это немного помогало.
В субботу приехала жена с вещами. Ее ненадолго пустили в палату. Она думала, что Святослав будет плакать и проситься домой. Но он не плакал. Сказал, что лежать в больнице он согласен только с папой. Меня поразил его изменившийся взгляд - он стал взрослым и выражал понимание всей серьезности положения. Слава вообще не плакал, даже когда ему прокалывали вены или брали кровь из пальца. Только морщился и просил его крепко держать: с папой не страшно.
В воскресенье нас приехал навестить в больнице священник отец Виктор, хорошо знающий нашу семью. В клинике его знают все врачи и медсестры. Он причастил Святослава, поговорили о диагнозе. Рассказал, что среди его прихожан есть победившие этот недуг и что о нас уже молятся в нескольких храмах и монастырях, и даже в одном из монастырей на Афоне. Это очень помогло психологически.
Утром в понедельник нас перевели в другую больницу, в онкологическое отделение. Я лег со Святославом в больницу, потому что ему, как он говорил, с папой не страшно. По результатам анализа костного мозга уже окончательно был диагностирован острый лимфобластный лейкоз. Опухолевых клеток в крови тогда был уже 91 %.
«Звони, если что». «Держись». Сотри из памяти
Я пролежал с сыном 18 дней. Потом легла жена. За это время она отлучила младшую дочь от груди и вошла в минимально устойчивое психологическое состояние. А мы со Святославом за первые дни в стационаре побороли инфекционные проблемы, потом вышли на серьезную химиотерапию и прочувствовали на себе всю тяжесть «побочек».
Мы лежали в трехместной палате: три ребенка и три родителя. Родители спали на раскладушках или в раскладных креслах. В тесноте, да не в обиде - даже юмору было место. В отделении, чтобы отвлекаться от надоедавших мыслей, я чистил плафоны, ионизаторы, менял в них лампы. Снимал и мыл жалюзи. Сынок, глядя на это, даже юморил - напевал песенку: «Папа может, папа может все что угодно».
По-настоящему тяжело было в одну из первых ночей, когда на скорой привезли маленького ребенка с мамой. Потом ребенка отправили в реанимацию, и среди ночи по безумным крикам матери все поняли, что его уже нет. Она кричала и рыдала так дико, все отделение проснулось, в палатах стали плакать проснувшиеся малыши. Это было как урок для всех нас - за наш скулеж и ропот на судьбу; нам как будто показали, как еще бывает - и благодарите Бога, что у нас не так и есть шанс. Это событие очень на всех подействовало; на следующий день все были какие-то притихшие.
На протяжении всего нашего пути меня очень раздражало, когда знакомые начинали по телефону пространно умничать о проблемах лечения рака в России: «У нас везде плохо, а вот в Израиле одному мальчику…» Хотелось вместо гудка в своем телефоне записать: «Привет, это Владимир, про плюсы лечения в Израиле или Германии я уже все знаю, заранее согласен, дай нужную сумму, и мы сразу поедем». Некоторым так и отвечал, и они больше не звонили. Страшно бесило подбадривание дежурными фразами: «Вы держитесь» (за кого или за что, и как это поможет?), «Звони, если что» (как вы могли заметить, «если что» у нас уже наступило, ага), «Не сдавайтесь» (в плен, что ли?).
За эти страшные дни список контактов моего телефона немного видоизменился - определился круг настоящих друзей, которые готовы без лишней болтовни сделать что-то реальное: посидеть с малышкой, помочь по дому или сходить в магазин, оказать материальную помощь или достать импортные лекарства, привезти необходимое в больницу.
Святослав не помнит самой острой стадии болезни - первые две недели, когда ему было все время плохо и больно. Детская психика стерла многое. Зато он помнит, как я рассказывал сказки и разные истории, как мы рисовали, клеили цветы и картины-аппликации, смотрели мультики, катались на стойке капельницы, как нам привозили из дома вкусную еду. Он помнит, как за неприятные процедуры врачи и медсестры дарили ему игрушки. Помнит благотворительные выступления музыкантов и актеров в коридоре отделения, спектакли и концерты. И как клоуны заходили в палату - и смешили всех.
После выхода из клиники пришлось решать вопрос, как совместить работу и воспитание малышки. Но мы справились - вместе со старшей дочкой и с помощью хороших подруг, которые сидели с дочкой, пока я был на работе, а старшая дочь в школе. Но это уже тема для отдельной истории.